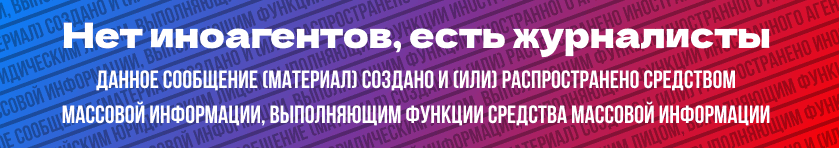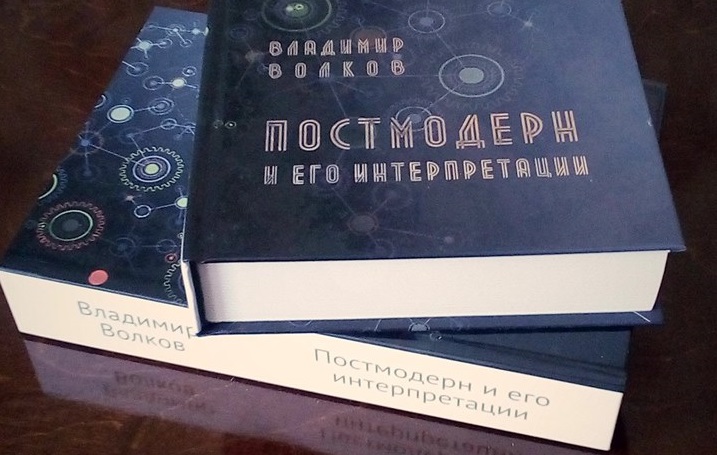Окончание интервью с философом Владимиром Волковым.
— Сейчас нам много говорят о духовных ценностях. Что вы видите в этом: подлинный возврат к традиционализму, или же, наоборот, характерный признак постсовременности?
— Я думаю, что разговор о духовных ценностях сейчас мало кому интересен. «Духовность», «сакральность», «трансцендентность» — тоже натура уходящая. Современный человек погружен в жизнь материальную, в жизнь, связанную с его телом. Он наслаждается (или ужасается) созерцанием хаоса и менее всего озабочен судьбами мира. Повседневность — вот стихия, где разворачивается его жизнь и существование. Традиционное общество с идеей служения, верой в Бога и высокой религиозностью занимает ныне маргинальные ниши. Классическое общество модерна, воспитанное на Просвещении и научно-технической революции, тоже уходит в историю. Сейчас люди живут в совершенно другом мире, который нуждается в новом подходе и новых интерпретациях. Трансцендентного, потустороннего, возвышенного, духовного, абсолютного не существует. Все превращено в товар, и высшим мерилом добра и зла стал сам фрагментированный индивид.
В эпоху постмодерна рушатся такие привычные формы социальности, как государство, нация, семья, религия, традиционный уклад жизни. Человек осознает, что нет никакого глобального смысла мира, общества, истории, социума, культуры. Бессмертие и вечность в таком мире воспринимаются скорее как насмешка и издевательство, чем как серьёзные идеи. В массовой культуре смерть превращается в китч, её осмеивают, над ней иронизируют, над ней издеваются. Если жизнь не имеет смысла, то и смерть утрачивает смысл. Вечность уже не имеет значения. Бесконечность сведена к понятию множества «здесь и сейчас», бессмертие — к бесконечной смене рождений и смертей.
В последние десятилетия общество кардинально изменилось. Известный социолог Зигмунт Бауман обращает внимание на два института, которые традиционно воспроизводили дисциплинарные практики, социальный порядок: промышленные фабрики и основанная на всеобщей воинской повинности армия. Чтобы выполнять свое предназначение, эти учреждения нуждались в мужчинах, пригодных для промышленного труда на фабриках и выполнения армейских обязанностей. Всё население составляло «армию труда», оно должно было расти и оставаться здоровым для обеспечения экономического и военного могущества страны. Военные находились на службе в армии, рабочие — в запасе, ожидая — при необходимости — призыва в её ряды: нужно только было быть признанным «годным» для несения тягот труда в промышленности, т.е. не быть ни истощенным, ни больным. Тело «воина фабрики» должно было вписываться в искусно спроектированную среду, соответствующим образом реагировать на задаваемые извне стимулы. Эту способность модерн назвал «здоровьем», неспособность — «болезнью». Другим аспектом «здоровья» явилось понятие «нормы». Критерием «нормы» стала способность работать и сражаться, в то время как неспособность к этому оказалась эквивалентом социальной аномалии, отклонением от нормы, подлежащей либо медицинскому лечению, либо уголовному наказанию. Потребление признавалось необходимым только для восполнения сил, а что сверх того, то — роскошь.
Кого сейчас интересует служба в армии? Откосить от неё — святое дело. Бауман напоминает о том, что воинская повинность на протяжении длительного времени была нормальным явлением. Массовое участие граждан-мужчин в национальной обороне считалось естественным. Все это сегодня практически исчезло, более того, воспринимается как аномалия. Серьезные новации в военной сфере ныне позволительны только немногим из порядка двухсот наций-государств мира, остальные лишь потребляют созданное ими. Технология сделала воинскую повинность неактуальной. Современному обществу не нужны ни массовый промышленный труд, ни массовая, основанная на воинской повинности, армия. Эпоха, на протяжении которой фабрики и войска были основными институтами поддержания порядка, закончилась. Но то же самое произошло и со всевидящей властью как главным средством социальной интеграции, нормативного регулирования и поддержания порядка. Большинство людей нуждаются сегодня в творчестве, а не в нормативном регулировании. Они выросли и сформировались как искатели и коллекционеры чувственного опыта, а не как производители и солдаты.
— А как же смысл жизни? Теперь люди уже не ищут его?
— Он сейчас тоже мало кого интересует. В эпоху утраты трансцендентного, духовного проблема смысла жизни кардинально трансформируется, поскольку в мире постмодерна только телесное существование остается единственной значимой вещью. Тело — инструмент наслаждения, наиболее ценное из всего, чем мы обладаем. Человек стремится отсрочить смерть и старение с помощью медицинской науки, индустрии здоровья и работы средств массовой информации. Сегодня быть старым становится неприличным. Выглядеть молодым и здоровым, непьющим и некурящим становится «модно», особенно среди элиты. Появляется так называемая «индустрия красоты». Широкое распространение получают омолаживающие процедуры и пластические операции, формируются свои разработанные образы наслаждения природой, поддержания здоровья, хорошего самочувствия, возникает потребность соответствовать канону красоты, совершенства, здорового образа жизни. На этом фоне быстро распространяются чудодейственные рецепты похудения, лечения болезней, сохранения формы. Беговые дорожки спортивных залов, бассейны, сауны, массажные салоны часто рассматриваются как средства зарядки энергией измотанных работой и «утративших форму» работников. Пляжи и дискотеки дают возможность расслабиться, освободиться от условностей, продемонстрировать себя и свое тело, приобрести новый чувственный опыт. Люди начинают понимать, что отныне можно жить, не имея перед собой ни цели, ни смысла, словно по кем-то написанному сценарию, и это в новинку. Эта новая форма существования, безразличная к смыслу жизни, проявляет себя без патетики и трагизма, без устремления к новым ценностям. Постмодернистский индивид занят лишь самим собой и в разной степени равнодушен ко всему остальному.
— Постмодернистское мышление предполагает отказ от идеологии и истины. Можно ли считать нашу власть внеидеологичной и постмодернистской, или всё-таки нет?
— Прежде всего, хотел бы заметить, что постмодерн отнюдь не отказывается от идеологии и истины, он просто трактует их иначе. От чего он отказывается? От метанарративов, больших повествований, таких, например, как рационализм, сциентизм, антропоцентризм, возможность абсолютной свободы личности, освобождение человечества, просвещенческий исторический прогресс, эмансипация, легитимность знания, просветительская трактовка знания как инструмента разрешения любых проблем, познаваемость всего и вся наукой, классический социализм и коммунизм, христианское спасение, гегельянский мировой дух, романтическое единство, нацистский расизм, кейнсианское равновесие, материальное изобилие и т.п. Не существует никакой абсолютной истины. Мы должны отвыкать от воззрений, будто можем вещать от лица вечной и сверхчеловеческой правды-истины, непоколебимого закона истории или никогда не заблуждающегося разума.
Постмодернизм — не идеология, он склонен к деидеологизации и деполитизации. Идеология авторитарна, она претендует на истину в последней инстанции. Неслучайно Маркс называл идеологию ложным сознанием. В постмодернизме нет базовых школ, основных течений, строгих программ, модных манифестов, авангардистских направлений. Сама постмодернистская «парадигма» выступает разрушительницей любых парадигм, ибо в основе её лежит осознание множественности, локальности и темпоральности действительности, лишённой какого-либо субстанциального основания. Постмодерн всеяден и многолик, он — бурное течение, торжество случайности, неизвестности, непредсказуемости, динамики, быстрого возникновения и стремительного разрушения. Если модерн претендовал на целостность, гармонию, создание общества, управляемого по законам разума, то постмодерн снимает бинарные оппозиции, он эклектичен. Общество постмодерна фрагментировано, разнородно, амбивалентно. Он включает в себя оседлость и мобильность; модернизм и традиционализм, глобализацию и изоляционизм, космополитизм и национализм, мультикультурализм и ксенофобию, государственность и «новый трайбализм», оседлость и номадизм, элитарность и массовость, центризм и ризоматичность, коллективизм и индивидуализм, мегаполисы и захолустье, толерантность и насилие, потребительство и аскетизм; рационализм и иррационализм, сакрализацию и десакрализацию, конвергенцию и дивергенцию как свои неотъемлемые и органические составляющие. Фрагментированность общества, измельчание идеологий, хаотизация всего и вся — сегодня неоспоримый факт. И нет никакого «Разума», который контролировал бы ход событий.
Во-вторых, в постмодернизме власть трактуется не просто как государственная власть (президент, Кремль, полиция, армия, силовики). Достаточно посмотреть на довольно сложное понимание власти Мишелем Фуко. Власть кроется в дисциплинарных полях, дисциплинарных практиках, мы с ней сталкиваемся везде и повсюду. Если же говорить о государственной власти, то в условиях постмодерна она становится слабой. Если раньше государство пухло, а народ хирел (В. Ключевский), то сейчас хиреет государство, оно остаётся в «дураках», власть переходит к транснациональным структурам. Этот феномен как раз и демонстрирует сегодняшняя государственная власть в России. Внутри страны государство не может собрать налоги, бизнес во многом стал серым, ушёл тень, уходит из России. На международной арене попытки действовать с позиций международного «пахана» привели к тому, что Россия превратилась в страну-изгоя и подвергается серьёзным экономическим и политическим санкциям. Российская «власть» как раз и демонстрирует отсутствие у неё власти. И это её страшно бесит.
— Традиционализм, противостоящий глобализации, ныне претендует на ведущую роль в мире. Какое место занимает российский традиционализм в этом процессе?
— Россия — страна, которая, не пройдя полноценного этапа модерна, вдруг оказалась в ситуации постмодерна. Поэтому многие черты постмодерна проявляются здесь в карикатурном и уродливом виде. Ранний и поздний капитализм сосуществуют в одном времени и пространстве, соответственно, сосуществуют (иногда в довольно странном симбиозе) твердолобый национализм и транснациональный космополитизм. Фундаментализм, модернизм, традиционализм и постмодернизм причудливо переплетаются в одних и тех же головах обывателей, демонстрируя разорванность, фрагментарность и шизофреничность массового сознания. Это сосуществование порождает удивительные коллизии и трансформации в умах и действиях различных политических структур и простых граждан — от лозунга «Покупай всё российское!» до покупки недвижимости на «прогнившем Западе».
Православная Русь, где реализуются идеалы Абсолютной Истины, Добра и Красоты, мирно уживается с Россией массовых политических репрессий, доносительства, Гулага, неустроенной жизни, жалкого быта, мата (который, по сути, является нормативной лексикой), безликих городов, уродливых строений, провонявших мочой лифтов, загаженных автобусных остановок, автомобильных пробок, прогнивших заборов, заваленных мусором лесов, отравленных промышленными отходами рек, непролазной грязи, тягостной нищеты, повсеместного хамства, беспробудного пьянства и показного, вызывающего русского богатства. Между декларируемыми целями и объективной реальностью пролегает огромная дистанция, которая для массового сознания просто не существует.
Политики, описывая Родину, Отчизну, Святую Русь, предпочитают не упоминать о российском бездорожье, вымерших деревнях, сёлах, посёлках, нищих, наркоманах, пьяных, безработных, бомжах. Напротив, говорится о величии, могуществе, духовности, православии, державности. Между декларируемыми идеалами, ценностями, целями и объективной реальностью пролегает огромная дистанция, которая для массового сознания просто не существует. Россия искусно делится на части и избирательно идеализируется, эти части выдаются за целое, частности оказываются представленными как сущность, которая должна сохраниться и в будущем. И неизменно предполагается, что эти важные частности — доброта, гостеприимство, широта души, бескорыстие — уникальны; что не пьянство, а душевность есть сущностная черта нашей нации, нашей страны, нашего народа, и такой широты души не встретишь нигде больше.
Сознание, ориентированное на традиционные ценности, живёт в переживании фундаментального конфликта, его понятия о ценностях двойственны и противоречивы. В таком сознании всегда имеется отчётливая дихотомия между теоретическими положениями и теми «данными», которые призваны их подтвердить. Традиционализм привычно эксплуатирует модель нормы — Русскую мечту, Святую Русь, Третий Рим, Коммунизм, Русскую идею, Духовность, Правду. Особую роль в достижении нормативного, правильного, истинного, играют так называемые чудеса, требующие для своего понимания непосредственного вмешательства авторитета. Они мыслятся как внезапный скачок в развитии, как чудесное преображение реальности. Средневековый фундаментализм во многом проистекает из веры в абсолютную незыблемость и твёрдость этого авторитета.
Важной особенностью традиционалистского стиля мышления является уверенность в том, что всякое «подлинное знание» можно опереть на непоколебимый фундамент, не требующий дальнейшего обоснования и неспособный стать объектом критики или пересмотра. Для него характерно убеждение, что познание — это только последовательное добавление всё новых и новых истин к уже известной их совокупности, надстройка очередных этажей над вечным и неизменным фундаментом. В традиционалистском обществе спекулятивная ориентация мышления схематизирует мир, представляя его как систему ясно очерченных и строго отграниченных друг от друга объектов. Поскольку это мышление движется по преимуществу от умозрительного мира к действительному, в нём преобладает ценностный подход с характерными для него рассуждениями от понятий к вещам, введением явных и скрытых целевых причин и т.п.
Навешивание ярлыков, поиски ереси — всё это неотъемлемые черты традиционалистских дискуссий по острым социальным проблемам. Традиционалист немыслим без поиска отступлений от ортодоксии, без постоянного преследования инакомыслия. Для него характерен догматизм, недопущение сомнений, нетерпимость к критике и преследование инакомыслящих. Точки зрения, радикально не согласующиеся с его собственной, представляются ему несомненной ересью, а те, кто их разделяет, — еретиками. Единство должно достигаться и сохраняться любой ценой, и выявление тех, кто мыслит иначе, — первый шаг в деле упрочения единства. С еретиками не спорят — их только обвиняют. И самым тяжким обвинением является указание на отступление от ортодоксии, от общепринятой доктрины, обычно проявляющееся в несогласии с тем её истолкованием, которого придерживается сам обвинитель.
По мере врастания России в глобальный контекст модернизации болезненность несоответствия между правильным идеалом и «неправильной», скверной реальностью проявляется всё более остро. До невероятных размеров разрастается мифология неких абсолютных и вечных ценностей как единственно возможных для русского человека жизненных ориентиров, особого и самобытного пути, по которому якобы идёт русский народ. Человек, озарённый светом абсолютной божественной истины, вооружённый славянофильской идеологией, испытывает миссионерский зуд, ощущение богоизбранности, стремится оказать благодеяние, превозносит власть русской идеи, империи, православия, духовности, святости, несущих свет истины непосвящённым. В реальности этот зуд трансформируется в различные формы агрессии — от борьбы с инакомыслием внутри России до военных действий в сопредельных странах. Для риторической репрезентации Родины, нужно чтобы она представлялась вновь и вновь. Патриотическая карта предполагает, что знакомое находится под угрозой. Повторение — это не просто повторение. Оно содержит среди своих риторических возможностей знакомого монстра: уверенный в своей правоте призыв к праведному национальному гневу. Кто виноват, что мы так плохо живём? — Они, не наши, чужие, враги.
Традиционализм реагирует на глобализацию консервативно: особенное выпячивается, обретает вызывающие, утрированные, даже уродливые формы, нарастает тенденция многих стран и регионов к подчеркиванию собственной самобытности и автономности, к отказу безоговорочно следовать модернизационным рецептам. Этот протест воплощается в возрождении локальных традиций, иногда в агрессивном национализме, возрождении геополитики, воинственной и враждебной риторике, борьбе с Макдональдсами, Диснейлендами, Интернетом, с импортным сыром или помидорами. Однако реальная политика, идущая вразрез с прогрессистскими тенденциями, сегодня затруднена, да и просто невозможна, поскольку модернизация несет повышение жизненного уровня, увеличение досуга, избавление от тяжелого труда и прочие земные блага; модернистский проект всегда нацелен на экспансию; борьба с глобализацией возможна только глобальными методами, любое локальное сопротивление националистов, традиционалистов, изоляционистов не могут привести к успеху.
— Возможно ли в будущем повторение тоталитаризма, или же такой политический режим был возможен только в условиях модерна?
— Постмодерн разнороден, он может включать в себя и демократические режимы, и авторитаризм, и тоталитаризм. Яркий пример тоталитарных режимов — северокорейский, кубинский (до смерти Фиделя Кастро), отчасти России и Ирана. Создать государство по типу сталинского Путин, конечно, уже не сможет. Нет у него для этого ресурсов. Да и не позволит ему это сделать международное сообщество. Северной Корее уже грозят серьёзными санкциями — и это не пустая угроза. Что касается России, то развалить её экономику и инфраструктуру достаточно легко. Россия давно уже не самодостаточна. Зайдите в магазины, на рынки. Там уже всё китайское, вплоть до тыквенных семечек и зубочисток.
Тоталитарные режимы в условиях постмодерна нежизнеспособны. Глобализацию невозможно запретить, закрыть для нее двери. Ценой такого предприятия была бы полная и недолговечная изоляция, в результате которой упрямым и непокорным пришлось бы сдаться. Веяния постмодерна распространяются по планете, не обращая внимания на границы и пропускные пункты. При необходимости они даже разрушают их. Осуществлять силовое вмешательство, захватывать территории, устанавливать оккупационный режим, как правило, не требуется. Если война оказывается неизбежной, достаточно просто разбомбить инфраструктуру, деморализовать население. Государственные режимы, адекватно оценивающие свои возможности, стремятся максимально угождать глобальному капитализму, создавая благоприятный климат для развертывания его мощностей в своей стране. Ведь если капитал не заинтересован в территории, она приходит в запустение. Государства, неадекватные ситуации, превращаются в маргинальные, остаются на обочине, деградируют. Свободный, текучий, проницаемый постмодерн стремится устранить барьеры, изоляцию, стены. Страна, которая пытается сегодня оградить себя «железным занавесом», «опорой на собственные силы», «импортозамещением», «санкциями в ответ на санкции», в современном мире вызывает лишь смех, а агрессивная политика наказывается международным сообществом эффективными «уколами» по самым болезненным местам национальной экономики, банковской сферы, инвестиционного пространства.
В российском государстве имитируется всё: президент, сенаторы, парламент, законность, независимость судебной системы, свобода СМИ, демократия, многопартийность, выборы — всё вроде бы есть, но на самом деле ничего нет. Есть лишь симулякры, потёмкинские деревни. Такие имитации и есть наглядный признак того, что система монополии себя изжила и зашла в исторический тупик. России в ближайшем будущем грозит распад, и никакая милитаризация её не спасёт, поскольку она не может найти адекватные ответы на вызовы истории.
Слабое государство не может быть тоталитарным, оно может только имитировать силу в «телевизоре». Внутри страны нарастают центробежные тенденции, желание разбежаться по территориальным и национальным квартирам. По-прежнему острой остаётся чеченская проблема. То, что Путин выплачивает из российского бюджета дань Кадырову, проблему не решает, но лишь оттягивает. Всё это подозрительно напоминает последние годы существования Советского Союза. Никто в восьмидесятых и не подозревал, что жить ему оставалось всего лишь чуть-чуть… Непредсказуемость — душа постмодерна.
Фото: Владимир Волков
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
“Политическая жизнь России являются одним большим симулякром”